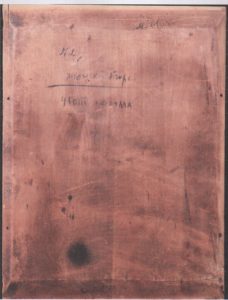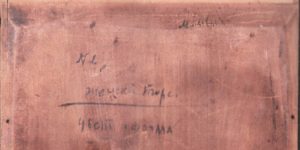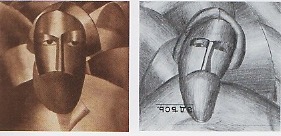Библиография Жан-Клод МАРКАДЭ МАЛЕВИЧ (PARIS-KIEV, 2012) МОНОГРАФИЯ
БИБЛИОГРАФИЯ ( в 2012 ГОДУ)
CATALOGUES RAISONNÉS
Troels Andersen, Malevich. Catalogue raisonné of the Berlin Exhibition 1927, Amsterdam, Stedelijk Museum, 1970
Donald Karshan, Malevich. The Graphic Work : 1913-1930. A Print Catalogue Raisonné, Jerusalem, The Israel Museum, 1975
Евгения Петрова et altri, Казимир Малевич в Русском Музее, Санкт–Петербург, Palace Editions, 2000 (также пo-английски)
Andrei Nakov, Kazimir Malewicz. Catalogue raisonné, Paris, Adam Birot, 2002
Troels Andersen, K.S. Malevich. The Leporskaya Archive, Aarhus University Press, 2011
CОЧИНЕНИЯ
ПО-РУССКИ :
Дмитрий Сарабьянов, Александра Шатских, Казимир Малевич. Живопись и теория, Москва, Искусство, 1993, c. 191-378
Казимир Малевич, Собрание сочинений в пяти томах (под ред. Александры Шатских), 5 т., Москва, «Гилея», 1995-2004
Казимир Малевич, Поэзия, Москва, «Эпифания», 2000 (под ред. Александры Шатских)
ПО-УКРАИНСКИ :
Дмитро Горбачов, « Він та я були укрaїнці» : Малевич та Україна, Київ, Сим Студия, 2006, c. 12-173
ПО–НEМЕЦКИ :
Malewitsch, Die gegenstandslose Welt (hrgg. u. übers. v. A. von Riesen, München, Bauhausbücher, 1927
Kasimir Malewitsch, Suprematismus. Die gegenstandslose Welt (hrgg. u. übers. v. Hans von Riesen), Köln, DuMont-Schauberg, 1962
Kazimir Malevič, Gott ist nicht gestürzt! Schriften zu Kunst, Kirche, Fabrik (hrgg. u. übers. v. Aage A. Hansen-Löve), München-Wien, Carl Hanser, 2004
ПО–АНГЛИЙСКИ :
Malevich, Essays on Art (edited by Troels Andersen), 4 т., Copenhagen, Borgen, 1968-1978
ПО–СЛОВАТСКИ :
Malevič, O nepredmetnom svete (preklad Nadia Čelpanova), Bratislava, 1968
ПО–ФРАНЦУЗСКИ :
Kazimir Malévitch, Écrits (éd. Jean-Claude Marcadé), 4 т., Lausanne, L’Âge d’Homme, 1974-1994
Malévitch, Écrits (éd. A. Nakov), Paris, Champ Libre, 1975
-
Malévitch, La paresse comme vérité effective de l’homme Paris, Allia, 1995 ( trad. R. Gayraud)
Kazimir Malévitch, Le Suprématisme. Le Monde sans-objet ou le repos éternel (trad. Gérard Conio), CH-Gollion, Infolio, 2011
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ :
Kazimir S. Malevič, Scritti (a cura de A. Nakov), Milano, Feltrinelli, 1977
Kazimir Malevič, Non si sa a chi appartenga il colore. Scritti teorico-filosofici, Firenze, Hopefulmonster, 2012 (a cura de Nadia Caprioglio , Jean-Claude Marcadé , trad. Nadia Caprioglio) [в наборе (testo a stampa)]
ПО-СЕРБСКО-ХОРВАТСКИ :
Kazimir Maljevič, Suprematizam. Bespredmetnost (priredio Slobodan Mjušković), Beograd, 1980 (содержит самую полную
библиографию малевичеведческой литературы до 1980 года)
КНИГИ И СБОРНИКИ О МАЛЕВИЧЕ
Emmanuel Martineau, Malévitch et la philosophie, Lausanne, L’Âge d’ Homme, 1977
Charlotte Douglas, John Bowlt (eds.), Soviet Union/Union soviétique, vo. 5, fasc. 2, Arizona State University, 1977
Jean-Claude Marcadé (éd.), Colloque international tenu au Musée d’art moderne, Centre Georges Pompidou, Paris, 4 et 5 mai 1978, Lausanne, L’Âge d’ Homme, 1979
Charlotte Douglas, Swans of Other Worlds : Kazimir Malevich and the Origins of Abstraction, Ann Arbor, UMI Research Press, 1980
William Sherwin Simmons, Kasimir Malevich’s Black Square and the Genesis of Suprematism 1907-1915, New York, Garland Publishing Inc., 1981
Larissa Zhadowa, Suche und Experiment : Russische and Sowjetische Kunst 1910 bis 1930, Dresden, 1982 – English Edition : Malevich : Suprematism and Revolution in Russian Art 1910-1930, London, Thames & Hudson, 1982
Jean-Claude Marcadé (éd.), Malévitch. Cahier I, Lausanne, L’Âge d’Homme, 1983
Heiner Stachelhaus, Kasimir Malewitsch. Ein tragischer Konflikt, Düsseldorf, Claasen, 1989
Eвгения Петрова et altri, Малевич. Художник и теоретик, Москва, «Советский художник», 1990 ( также английское, немецкое и французское издания)
Jean–Claude Marcadé, Malévitch, Paris, Casterman, 1990 [также на японском языке, Токио, Либропорд, 1994]
Serge Fauchereau, K. Malévitch, Paris, Cercle d’Art, 1991 (также английское изданиe)
Rainer Crone, David Moos, Kazimir Malevich. The Climax of Disclosure, München, Prestel, 1991 ( также немецкое изданиe)
Gerd Steinmüller, Die suprematistischen Bilder von Kasimir Malewitsch : Malerei über Malerei, Bergisch Gladbach/Köln, Josef Eul, 1991
Вячеслав Завалишин, Малевич, New York, Effect, 1992
Дмитрий Сарабьянов, Александра Шатских, Казимир Малевич. Живопись и теория, Москва, Искусство, 1993
Frédéric Valabrègue, Kazimir Sévérinovitch Malévitch, Marseille, Images en Manoeuvres, 1994
Charlotte Douglas, Malevich, New York, Harry N. Abrams, 1994
John Milner, Kazimir Malevich and the Art of Geometry, New Haven/London, Yale University Press, 1996
Jiří Padrta, Kazimir Malevič a Suprematismus, Praha, Torst, 1996
Александра Шатских, Казимир Малевич, Москва, Слово, 1997
Bruno Duborgel, Malévitch. La question de l’icône, Université de Saint-Etienne, 1997
Jeannot Simmen, Kasimir Malewitsch. Das schwarze Quadrat, Frankfurt/Main, Fischer, 1997
Tатьяна Котович, Малевич. Классический авангард, Витебск, 13 выпусков, 1997-1912
Hans-Peter Riese, Kasimir Malewitsch, Reinbeck, Rohwolt, 1999
Ирина Карасик et altri, В круге Малевича, Санкт-Петербург, Palace Editions, 2000
Andrzej Turowski, Malewicz w Warszawie : rekonstrukcje i symulacje, Krakow, 2002
Margarita Tupitsyn, Malevich and Film, New Haven/London, Yale University Press, 2002
Andrei Nakov, Malévitch aux avant-gardes de l’art moderne, Paris, Gallimard, 2003
Gilles Néret, Kazimir Malévitch, 1878-1935 et le Suprématisme, Köln, London, Los Angeles, Madrid, Paris, Tokyo, Taschen, 2003
Иннеса Левкова-Ламм, Лицо квадрата. Мистерии Казимира Малевича, Москва, 2004
И.А. Вакар, Т.Н. Михиенко, Малевич о себе. Современники о Малевиче. Письма. Документы. Воспоминания. Критика, Москва, РА, 2004 (2 томa)
С.О. Хан-Магомедов, Супрематизм и архитектура (проблемы формообразования), Москва, «Архитектура-С», 2007
-
Nakov, Kazimir Malewicz, le peintre absolu, Paris, Thalia, 2007 (4 т.)
Charlotte Douglas, Christina Lodder, Rethinking Malevich, London, The Pindar Press, 2007
Александра Шатских, Казимир Малевич и общество Супремус, Москва, Три квадрата, 2009
Andrei Nakov, Black and White. A Suprematist Composition of 1915 by Kazimir Malevich, Göttingen, Steidl, 2009
С.О. Хан-Магомедов, Казимир Малевич, Москва, C.Э. Гордеев, 2010
КАТАЛОГИ
Полная библиография каталогов от 1898 до 2000 года в : Andrei Nakov, Kazimir Malewicz. Catalogue raisonné, Paris, Adam Birot, 2002, с. 412-446
Обширная библиография литературы о Малевиче до 2002 года в: AndrzejTurowski, Malewicz w Warszawie : rekonstrukcje i symulacje, Krakow, 2002, c. 500-514
Много важных каталогов были опубликованы между 2002 и 2012 годами, среди них :
Suzanne Pagé (éd.) Malévitch. Un choix dans les collections du Stedelijk Museum d’Amsterdam, Paris, Musée d’ Art Moderne de laVille de Paris, 2003
Matthew Drutt (ed.), Malevich. Suprematism, New York, Solomon R. Guggenheim, 2003
Александра Шатских, Казимир Малевич. Рисунки разных лет, Москва, Московский Центр Искусства, 2003
Claudia Zevi, Evgenija Petrova (a cura de), Kazimir Malevič/Oltre la figurazione, oltre l’astrazione [Roma, Museo del Corso], Firenze, ArtificioSkira, 2005
Jean-Claude Marcadé, Jean-Hubert Martin, Evgenia Petrova, Kasimir Malevich,Barcelona, Fundació Caixa Catalunya/ Bilbao, Museo de Bellas Artes, 2006 [также каталоги на кастильском и каталaнском языках]
Katja Baudin, Elina Knorpp (hrsgg. v.), Kasimir Malewitsch und der Suprematismus in der Sammlung Ludwig, Köln, Wienand/Museum Ludwig, 2011